Александр Гарриевич прилетел в Екатеринбург буквально на день — по приглашению Дворца молодежи на фестиваль молодежной журналистики Time Code, после которого согласился с нами отужинать и рассказать о жизни, работе, страхах, Федоре Достоевском, вкусном плове — в общем, о себе. Беседа у нас, вопреки нашим переживаниям, вышла премилая и интересная.
О социальных сетях
У меня нет твиттера. Меня нет ни в каких социальных сетях, хочу подчеркнуть это для ваших читателей, это все фейки. А то, что там есть твиттер сплошь и рядом пропутинский, если это делает сам Владимир Владимирович, я только счастлив. Я сам — никогда. Меня один раз спросили, когда еще не было никаких твиттеров и инстаграмов: «Есть ли у Вас жж?». Я ответил: «Никогда в ж» и сейчас придерживаюсь той же самой позиции. Я пожалел впервые, что у меня нет ничего похожего, когда несколько дней назад позвонил человек и говорит: «Здрасте, это такая-то контора питерская, у нас есть заказчики, они хотят у Вас разместить рекламу» в какой-то из сетей, не помню. Я говорю: «Пусть размещают, пусть, конечно».
Это одна из проблем нашей жизни, что никак нельзя сохранить интимность из-за разросшегося интернета. Я давно предлагал и до сих пор настаиваю на следующей идеологии. Я отношусь к интернету так: все, что ты скачиваешь из интернета, должно оставаться анонимным. Ну, мало ли что ты скачал там, кино или порнографию, никому до этого дела нет. Но все, что ты выкладываешь в сеть, должно быть выложено под твоим именем, и это имя должно быть подтверждено.
.jpg)
О душе
Я душу не отрицаю, потому что иначе непонятно, чем мы живем и чем мы работаем, особенно в таких жанрах, как кино и театр. Я просто не берусь дать определение этому делу, и уж, поскольку я – человек, так получилось, неверующий, я не верю ни в бессмертие оного, ни в богоданность ее. Мне кажется, что душа — это воспитание чувств. Вот как тебе повезло с детства эти чувства воспитать, такая у тебя и душа, вот и все.
О Дуне Смирновой, Татьяне Толстой, чувствах и разуме
У нас тогда (в передаче «Школа злословия» выпуск 2002 года с А. Гордоном) с ними был спор о чувствах и разуме, более того, мы спорили с ними даже о том, что такое чувства и эмоции, они утверждали мне, что это одно и тоже. Время показало, что никто не может быть правым или виноватым, что все это относительно.
Но дело не в этом, а в том, что Вы же не знаете дальше. Я жил под Москвой тогда, и я еще не успел добраться до дома после этой передачи, как мне позвонили Дуня и Татьяна и сказали: «Саш, ну а че мы не общаемся? Давайте выпьем прям завтра же!». Я повелся, козел! Говорю: «Девки, да конечно!». С тех пор я увиделся с Дуней два раза, после того, как она вышла замуж за Чубайса, и она называла меня на «Вы», а с Татьяной Толстой я не виделся ни разу. Это у кого чувства, у кого разум? У кого жопа каменная, а кто готов всей душой? Я на них настолько обижен, что говорю об этом публично и вслух. Поманили человека: «Пошли бухать, ты наш», и бросили, ну что это? Дуры! Но, смотрите, поскольку печатное интервью не передает интонацию, я предлагаю, когда в будете писать, протянуть так «дууууры», чтобы возникла нежность некоторая.
Что я могу сказать. Учитесь у меня, у них не учитесь.
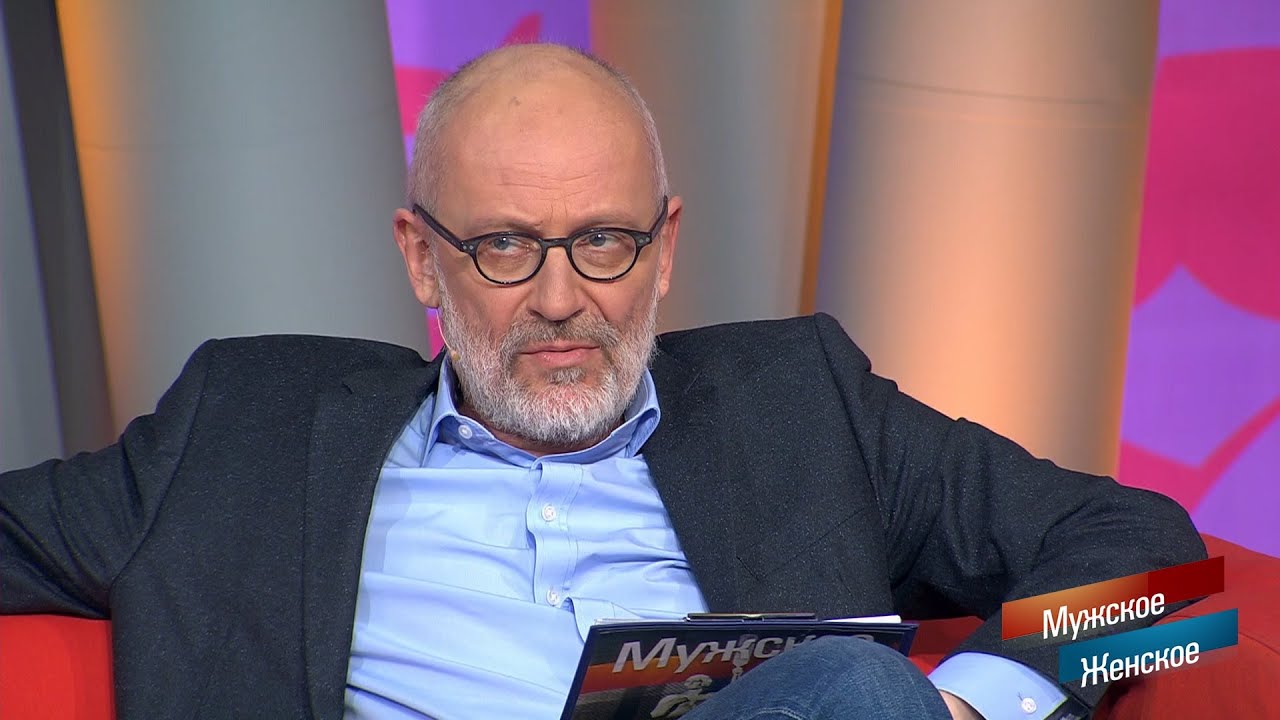
О творчестве
Знаете, меня так учили с детства, что в первом лице говорить о творчестве неприлично. Творчество это или нет, определяет публика или время. Это работа. Бывает такая работа, бывает сякая работа. Никакой цели у этой работы, если это не заработок, конечно, нет. Кроме одной. Кино — это очень дорогостоящий способ попытаться ответить для себя на вопросы, на которые иного ответа ты найти не можешь. То есть, тебе нужно прожить жизнь других людей в качестве режиссера, а тут еще и продюсера, и немножко актера, чтобы ответить на вопрос «а я-то кто?». И тут без чувств не обойтись. Я крайне чувственный человек.
О фильмах
Я всегда называю один и тот же джентельменский набор. У меня есть три любимых фильма: это «Дети райка» Марселя Карне, «8 ½» Феллини и «Не горюй» Георгия Николаевича Данелии. Это фильмы, которые я взял бы с собой в разведку, что называется, на необитаемый остров, на другую планету. Потому что их смотреть не скучно с любого места и никогда.
О книгах
Что касается книг, здесь сложнее, потому что книги для меня делятся на написанные по-русски и переведенные на русский. И тут есть большая проблема, потому что, с тех пор, как я немного знаю английский и прочел того же Фолкнера по-английски или, что еще хуже, прочел Рэя Брэдбери, который оказался в переводах гораздо значительнее, чем на родном языке, я как-то переводам не очень верю.
Что касается русской классики, то тут я традиционен абсолютно. Я считаю лучшим писателем земли русской Лескова, за ним сразу идет Толстой, а потом в любой последовательности. Хотя Достоевского я не люблю, потому что он великий детский писатель. Те проблемы, которые он поднимает и способы, которыми он их разрешает, мне кажется, хороши для подростков. А для тех людей, которые хоть что-то успели прочухать в этой жизни, он не канает совершенно. Он действительно великий детский писатель, ну, как Жюль Верн, только Жюль Верн писал приключения, а здесь приключения отдельно взятой человеческой души, незрелой. А раз незрелой, значит подростковой, а раз подростковой, значит кому это интересно, кроме подростков? Я это пережил уже, не хочу.
Притом, что я ставил «Бесов» Достоевского в театре. Захотелось придумать, как это можно сделать для театра, не более того. То есть, я каюсь здесь перед Федором Михайловичем, он для меня был материалом, а это не очень честно, когда ты к автору относишься как к материалу. Поэтому, наверное, и не получилось.
.jpg)
О страхе смерти
Сняв кино «Огни притона», я избавился от самого определяющего страха в жизни — страха смерти. Своей смерти я никогда не боялся, помня того же Сенеку — а чего ее бояться. Когда ты есть, ее нет, когда она пришла – тебя нет. Все боятся не собственной смерти, все боятся непостижного ухода близких. А меня этот фильм даже от этого избавил, потому что мне показалось, что они, если и уходят, то знают, куда уходить, и не нам их удерживать. И вера в Бога тут не при чем. ОНИ знают, куда ИМ уходить, то есть ОНИ во что-то верят, и не надо их удерживать.
О вкусном плове
Суп здесь вкусный. Картошка замечательная, они готовят ее как я. Я случайно открыл, что, чтобы картошка была вкусной, ее надо готовить в кислой среде. Готовил капусту, потом кастрюлю лень было помыть, дай, думаю, сварю там же картошку. Она от этого получается твердая снаружи и как пюре внутри.
Готовить я умею и, в принципе, люблю. У меня жена таджичка, так что я стал готовить много плова. Начинал с самого простого ферганского плова, потом перешел к самаркандскому, другие пробовал делать. Делаю как надо — с горохом, с чесноком. В последнее время стал класть этот аргентинский, без зубчиков. Так все так смотрят в тарелку, пытаются понять, что это. Барбарис не кладу — это, по-моему, баловство, зиры хватает. Последний раз твердого гороха не было, обычный зеленый горошек добавил. Его главное не переварить — и вкусно. Таджики обижаются, когда им говоришь, что плов бывает только узбекский, что это узбекское блюдо. Обижаются, но едят.
О секретах интервью
Это гениально, кстати, Вы сделали. Заметьте и себе отложите. В интервью с любым другим человеком, кто бы это не был. Через паузу спрашиваете у него «А о чем это мы? А, ну да…». Это его напрягает и обезоруживает.
Есть еще один интересный прием, замечательный совершенно, который я всегда в интервью использую. Это вот как раз, когда меняешь круги внимания. Задаешь человеку вопрос, он на него долго что-то отвечает-отвечает-ответил. А ты молчишь. Но, если молчишь и смотришь ему в глаза, — это провокация, а если молчишь и поменял круг внимания, и просто молчишь, он от паузы начинает понимать, что что-то недосказал и говорит дальше. Ты говоришь: «Да-да, извините», и опять молчишь. И тут он выкладывает самое главное, потому что психологически он хочет ответить, он хочет убедить в своей правоте. И если ты его аргументы следующим вопросом не принимаешь, он будет выкладывать, и выкладывать, и выкладывать. Прием!

О Познере
Владимир Владимирович — великий человек. Великий просто. Он олицетворение трех эпох в нашей телевизионной журналистике, он умница, он теперь еще и рыцарь Ордена Почетного легиона, прямо молодец. НО!
Мне с ним повезло встретиться на интервью дважды. Первый раз, когда он вел свою школу и позвал меня в качестве подопытной мыши, на которой он покажет, как брать интервью. И довольно подробно рассказал, как брать интервью. Второй раз, когда я пришел к нему в эфир, он совершил главную ошибку всех интервьюеров. Отвечая на его вопрос, им заданный, я говорил: «Ну, во-первых…», имея в виду и во-вторых. Он выслушал «во-первых» и проигнорировал «во-вторых», а ответ крылся в этом. И когда я понял, что меня элементарно не слышат, что меня тянут к анкете Марселя Пруста, что ему интереснее всего, я кивнул головой и говорю: «Хорошо, как Вы спрашиваете, так я и буду отвечать». Нельзя открыть человека в интервью, если его не слышишь. Владимир Владимирович перестал слышать в интервью. Я смотрел последние три программы в этом сезоне, он почти не слышит. Это как с поэтом, который перестал писать, потому что вдруг перестал слышать. То ли готовиться нужно лучше, то ли собеседника искать себе интереснее. Но после нашей программы я был не просто обижен, я был оскорблен. Ну нельзя позвать человека и не выслушать его.
Я думаю, что это от излишней занятости, он же тоже пашет как сумасшедший. Я думаю, что просто не успел подготовиться, не захотел услышать, не в настроении был. Зрителю это совершенно пофиг. Как профессионал могу понять, но мне, как приглашенному гостю, до сих пор обидно.
О масштабах личности
Смотрите какая история. Человек, когда живет, он набирается опыта. Когда он набирается опыта, он, в собственных глазах по крайней мере, раздувается. Он становится равным миру, ему кажется, что он что-то познал, что он опытен и так далее. И вот он живет как клоп, раздуваясь этим сознанием мира, а потом наступает какой-то щелчок — новая дверка открывается — и он скукоживается до размеров младенца, потому что открылась бездна звезд полна. Он приходит к такому, о чем он даже не подозревал, и он становится вообще несоизмеримым с новым знанием, которое он получил.
У меня дважды в жизни такое бывало. Когда я раздувался как клоп, а потом мироздание этого клопа давило, и приходилось собирать ошметки и начинать сначала. Конечно, это пугает, потому что несоизмеримость масштабов и сроков твоей жизни со всем, что тебя окружает, не может не пугать. К сожалению, все реже и реже, но иногда, когда я просыпаюсь ночью от внезапного сердцебиения, и пытаюсь вспомнить сон, который я видел, это именно сон про меня — мизерного клопа — и бездну. И тогда сердце буквально просто останавливается.

О нелюбви к телевидению
Да, я работаю на телевидение из-за денег и не люблю его. Если бы можно было не выходить в эфир, но получать деньги, это было бы прекрасно. Мало я это начальству говорю, я это еще и зрителям говорю. Зачем? Но вот скажите мне, пожалуйста, какие у Вас лично есть обязательства в жизни? Лично у меня вот три семьи на прокорме.
Вы просто не понимаете актерскую природу. Все, что я делаю на телевидение — это актерство так или иначе. Я изображаю Гордона, который ведет вот эту передачу, Гордона, который ведет вот эту передачу. Я давно устал от этого изображения. Чтобы посмотреть 8 часов в день, 5 дней в неделю, ну выходные же полагаются, без отпуска, все, что я наваял там, Вам понадобится два года и десять месяцев. Просто каждый день сидеть и смотреть, это совершенно неподъемно. И Вам кажется, что мне это по-прежнему нравится? Можете себе представить четыре записи в день, три дня в неделю? Какая тут эфирозависимость? Тогда у космонавта есть зависимость от этой центрифуги, в которой его крутят. Он-то в космос хочет, а ему говорят: «Нет, сволочь, будь здесь. Мы тебя покрутим сейчас, поблюешь, потом только в космос полетишь».
Для меня такой космос — это дом, я домой хочу. Это не я первый придумал, это кто-то, чуть ли не Бергман, сказал, что артисты, как матросы — они все время хотят домой. Я хочу домой, я очень давно хочу домой.
Об актерском мастерстве и Мамае
Сейчас актер как актер не востребован, он востребован как маска. «Пава, изобрази!» Ты помнишь вот три сериала назад вот это делал, мне вот это и нужно, играй здесь. Актер — существо реактивное, очень мало актеров, которые еще и размышляют о том, что они делают, потому что тогда просто когнитивный диссонанс происходит. И очень многие даже не режиссеры, а кастинг-директоры этим пользуются. Берут амплуа, берут прежнюю роль на новую, и актера тут не остается уже совсем. Меня уже затаскали этих, как он назывался-то, Господи Боже мой… Мамаев играть. Каждое новое предложение – это другой Мамай, умный враг такой.
Я еду в Сапсане в Питер на два дня поработать, сидят такие конкретные ребята напротив и бухают. Слово за слово, один спрашивает: «Простите, ради Бога, ну Вы ж Мамай?». А ничего, что я до этого сделал вот это, вот это, вот? Мамай! Ну ничего, оказались внятные ребята, потом вспомнили, что я еще и Гордон, почти подружились. А пацаны, которые идут по Арбату и говорят «Мамай, здарова!». Нужно было прожить пятьдесят лет, из них двадцать с лишним на телевидении, чтобы тебя узнавали как Мамая! А мне нравится, кстати. Мы сейчас второй сезон сняли, там будет не только узнавание, там будет колоссальное сопереживание. Там с героем происходят метаморфозы. Могу показать фотку со съемок.
О нелюбви к людям
Из фильма «Огни притона» понятно, в чем выражается эта нелюбовь. Героиня этого фильма, которую замечательно играет Оксана Фандера, стоит с молодым человеком, который за ней ухаживает, но понятно, что он ей не ровня, просто пора бы за кем-то ухаживать уже. Они стоят в Художественном музее Одессы, и она смотрит на картину, на которой грабители украли лес, убили собаку и привязали дворника. Она стоит и плачет над этой картиной. Он ей говорит: «А чего это у Вас глаза на мокром месте?», она отвечает: «А что я могу? Мне жалко людей, особенно всех». И это не неприязнь к людям, это жалость. Некоторые люди жалость к себе воспринимают как унижение, но это не так. Мне жалко людей, особенно всех.
